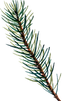Атропин сердца моего
Сандалики нащупывают ребра ступеней. Вот самая скрипучая, значит, еще чуть-чуть. Ладошка стискивает деревянные перила. Справа проплывает размытый синяк почтового ящика. Десятый день первых летних каникул. Десятый день мучений.
Дверь брамы распахнута — ослепительное утро жжет донышки глаз сквозь беззащитные атропиновые зрачки. Зажмуриваюсь. До калитки пять шагов. Лоза дикого винограда вьется по забору-сетке, и я тоже цепляюсь пальцами за проволочные ромбики.
В дядь-Шурином садике никого. Ни Иванки, с которой собирались зарыть «секретик» – завернутую в фантик «Золотого ключика» голубую бусину, — ни всегда готового поиграть в прятки Тоши. Нормальные дети дома перед теликом, только я пропускаю «Мэри Поппинс». Противные капли! Кто их выдумал? Ни почитать, ни порисовать. Меня вообще спросили? Морщу переносицу — поправить вечно сползающую оправу, но ее нет. Смысл носить очки, когда ты ежик в тумане?
Тропинка делит садик пополам, деревья скучают парочками, как школьники за партой: две яблони, две вишни, две сливы.
Топаю к левой яблоне, той, что подглядывает в наше окно. Полторы недели назад плоды и близко не розовелись, сейчас, значит, в самый раз — кисленькие. Конечно, не лучшая идея взбираться на этот расплывчатый зонт. Но мне не страшно. Все деревья я знаю назубок. Объедаю их ежегодно, особенно одинокий абрикос у заднего забора.
— Привет! — кора яблони шершавая, теплая. Переступаю подушечками грубый нарост вокруг овального глазка, провожу по широкому впалому зрачку. — И тебе закапали атропин?
Вдруг там, за ним — дверца в сад говорящих цветов, пирожок «Съешь меня!», Чеширский кот… Сцены зачитанной до дыр и заплаток «Алисы» до того меня обуревают, что пальцам мохнато, словно под ними и впрямь кошачий хвостик. Тонкий, извивающийся и…
ГУСЕНИЦА-А-А!
Бегу. Падаю. Разбиваю коленку. Но ни боль, ни литр зеленки не вытесняют мерзкую ползучую… Бр-р! Отпускает только к вечеру, когда, забравшись на широкую тумбу буфета, вжимаюсь спиной в белые глазурованные тюльпаны кафельной печки. Она, хоть и не топлена, приятно греет. Бабушка рядом на стуле читает вслух «Денискины рассказы». Сколько ни щурься, атропин и усталость дурманят глаза. Зеленчатые леопарды запускают красные шарики в синее небо, девочка на шаре перечисляет главные реки, шляпа гроссмейстера — чики-брык! — вылетает в окно электрички…
***
Сидим втроем на тахте сына. В углу искусственная елочка, за окном – плюс двадцать израильского декабря.
— Сегодня читаем по-русски! — жестом фокусника достаю из-под подушки купленный утром экземпляр «Дениски».
Моя книжка с расслоившимися уголками, проплешинами на корешке и черно-белым заголовком осталась во Львове. На новенькой глянцевой обложке теснятся шесть комиксных «скриншотов». Я-то сразу узнаю сюжеты, а утомленные гонялками шестилетние сабрики[1] моргают на эту пестроту и вот-вот заснут.
Листаю. Чудится, или типографская краска отдает нагретым кафелем? Знакомые фразы тянут руки, как отличник-выскочка: «Меня! Меня, ну пожалуйста!»
А вот и идеальный рассказ — «Заколдованная буква». Коротенький, смешной и на злобу дня — сын с недавних пор занимается с логопедом.
«…Она лежала большая, мохнатая и так вкусно пахла морозом, что мы стояли, как дураки, и улыбались…»
Отяжелевшие головки Труляля и Траляля привалились ко мне с обеих сторон, как шахматные королевы к Алисе.
— Има, ма зэ «маро-озам»? — зевает дочка, все ее «з» звонки донельзя.
И и‘ма, то есть я, мама, объясняю:
— Мороз это когда очень холодно и идет снег. Помните, в прошлом году мы катались на санках на горе Хермон? Ты, Маюша, жаловалась на комариков в щечках. Вот это мороз их и кусал.
«Сыски», «фыфки» и «хыхки» сонные двуязычные заводики кое-как перемалывают — пластиковые шишки на нашей елочке есть. Гораздо труднее растолковать, почему от смеха покатываются, что значит «поднажать» и «поддать жару». Сын засыпает — перегрелся, бедняга, эпитетами и устойчивыми выражениями.
«Еще!» — требует дочка и выдерживает почти целый рассказ, но на словах «Ведь он живой! И светится!» уже сопит.
Укладываю ее и ныряю в кипучее житие Дениса Кораблева. Смешные, трогательные сюжеты возникают в памяти сами собой. Рассказывают мне меня. Меня-девочку, меня-маму.
***
Елочка уходит в кладовку и возвращается еще десять раз. «Денискины рассказы» маются на полочке с другими детскими книгами, пережившими две великие «чистки» и пару маленьких.
Просыпаюсь. «Нажми меня!» — синеет в правом верхнем уголке экрана кружочек мессенджера. Если бы Кэрролл сочинял «Алису» в наше время, пирожки и пузырьки стали бы такими вот кружочками.
«Инна, здравствуй. Если не ошибаюсь, мы бегали в одном дворе на улице Провиантовой во Львове…»
Хм, узнать в Фейсбуке можно немало. Кто кликнет на ссылку моей странички, прочтет и про Львов, и про Провиантовую. И всё же — кто? Взрослое, официальное имя. Аватарка не выручает — мелкий план, лица не разглядеть. Зажмуриваюсь. Где-то глубоко теплятся язычки узнавания, искры брызжут о печную заслонку век… Тоша? Тоша!
«Тревога, тревога, душевное равновесие в опасности!» — мигают красные лампочки, врубается сирена. Пожарники тащат огнетушители, качают шлангами рассудительность. Потрясения, даже приятные, мне ни к чему. Я учусь на курсах редактуры и параллельно работаю над первым романом.
«Подавай друга детства!» — в недрах душевного муравейника клацает жвалами царица-матка, запускает по телу дофаминово-серотониновые мурашки.
«Не ошибаешься. Напишу после работы».
Вечером созваниваемся. Я за рулем, на скоростном шоссе.
— Инна, я так рад… прям не верится!
— Ага. Фантастика.
Напоминаю себе — роман, редактура, душевное равновесие. Но знакомый повзрослевший голос растекается во мне, как запретный пломбир по ангинному горлу. Это он, всамделишный Дениска моего детства. Фантазер и зачинщик проказ, знаток крыш и чердаков, палководец казаков и разбойников... Одним словом — Тоша.
Листаем взад-вперед тридцать с хвостиком лет. Тысячи километров и миллионы минут затуманивают мальчишеские черты. К моей близорукости (не помог атропин!) добавилась возрастная дальнозоркость, и сквозь мультифокальные линзы я вижу его — чуткого, остроумного, впечатлительного. Зрелого.
Ногой торможу, но педаль сердца отказывает. Оно, забив на указатели и дорожную полицию, несется на сто ударов в секунду, будто вкололи в миокард всё тот же атропин. Пролетаю нужный выезд с шоссе. Кто-нибудь, остановите!
— ...наш поцелуй в браме, под синим почтовым ящиком, помнишь? Лет шесть нам было…
Ржем и краснеем по обе стороны Атлантики. И опять плывет перед глазами, как в то капельное лето. Задираю голову — вкатить обратно слезы Денискиным способом.
— Тоша, а ты… — на выходе слово «милый» застревает, оштрафовал-таки бдительный гаишник, — а ты не выдумываешь?
Тоша рассказывает мне меня. Меня-девочку, меня-женщину. С ним уютно, как в читаной-перечитанной книжке. Вроде знаешь наизусть, а всё равно завораживает. Кое-что подзабылось, кое-что воспринимается иначе через нацепленные опытом очки.
Я опять в дядь-Шурином садике, верхом на узловатом абрикосе. По стволу ползет зеленая гусеница. Ползет ко мне — мохнатая, голодная на эмоции. Э, нет! Отламываю сухую веточку — свергнуть незваную нахалку обратно в одуванчиковую пучину воспоминаний. Гусеница замирает. Ага, испугалась! Она вытягивает спину и оранжево-черные полоски складываются в буквы: МУЗА.
— Алло, Инн?
Выруливаю в свой переулок. Драйв-ньютрал-паркинг. Рука задумалась на коробке передач, костяшки щекочет солнечный зайчик. Что?! Какой зайчик в девять вечера? Выглядываю — припарковалась под фонарем. Вот и всё. Но желтое пятнышко щекочет. Он живой и светится…
Боже, хватит фантазировать. Поправляю оправу на переносице, прищуриваюсь: на руке… бабочка! Упирается лапками, прозрачные крылышки подрагивают. На левом черным по желтому мерцает — «Атропин сердца моего», на правом — «Рассказ».
[1] Сабра или цабар (ивр) – кактус опунция. Коренных израильтян часто сравнивают с ее плодами – колючие снаружи, сладкие внутри.